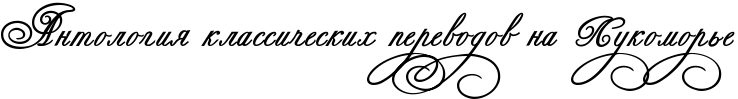|
The Raven
Ворон
Edgar Allan Poe
Эдгар Аллан По
Перевод Брюсова Валерия Яковлевича (Вариант 1905 г.)
| The Raven |
Ворон |
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
"'Tis some visiter," I muttered, "tapping at my chamber door –
Only this, and nothing more."
|
Как-то в полночь, в час ненастный, утомленный, безучастный
Я над старыми томами веком проклятых наук,
Забываясь, наклонялся, снам иль думам предавался,
Вдруг раздался - я услышал - вдруг раздался тихий стук,
"Это - гость", - так прошептал я, вдруг расслышав тихий стук,
Прошептал, проснувшись вдруг.
|
Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow; – vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow – sorrow for the lost Lenore –
For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore –
Nameless here for evermore.
|
А! я помню слишком ясно: был декабрь и час ненастный.
От камина отблеск красный на полу чертил свой круг.
Как я утра жаждал страстно! как безумно, как напрасно
В книгах я искал забвенья беспощадно долгих мук,
Об утраченной Леноре беспощадно долгих мук,
О мечте, чье имя - звук!
|
And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me – filled me with fantastic terrors never felt before;
So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating
"'Tis some visiter entreating entrance at my chamber door –
Some late visiter entreating entrance at my chamber door; –
This it is, and nothing more."
|
Занавесок шелк качался, тихий шорох раздавался,
Из углов ко мне тянулись сотни чуждых, смутных рук.
В этой комнате пустынной страх зловещий, беспричинный
Рос на сердце с ночью длинной... Вдруг раздался тихий стук.
"Это - гость, - так прошептал я, вдруг расслышав тихий стук, -
Гость, ко мне зашедший друг".
|
Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,
"Sir," said I, "or Madam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,
That I scarce was sure I heard you "– here I opened wide the door;–
Darkness there and nothing more.
|
И, собой овладевая, громко я сказал, вставая:
"Кто б ты ни был, кто стучишься, извини мне, добрый друг!
Утомленный, задремал я, и не сразу услыхал я,
И не сразу расслыхал я твой у двери робкий стук".
Извиняясь так, я настежь дверь свою раскрыл на стук...
Тьма - и только тьма вокруг!
|
Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;
But the silence was unbroken, and the darkness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore!"
This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore!" –
Merely this, and nothing more.
|
И стоял я одиноко, как над пропастью глубокой.
С несказанными мечтами я смотрел на темный луг.
Тьма была мертва для взора, но, как зов далекий хора,
Прозвучало вдруг "Ленора" - тихий отзвук долгих мук.
Это я шепнул "Ленора" - тихий отзвук долгих мук.
И во мраке умер звук.
|
Back into the chamber turning, all my soul within me burning,
Soon I heard again a tapping somewhat louder than before.
"Surely," said I, "surely that is something at my window lattice;
Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore –
Let my heart be still a moment and this mystery explore; –
'Tis the wind and nothing more!"
|
Я вернулся потрясенный, этим зовом опьяненный,
Но лишь дверь свою закрыл я, вдруг раздался прежний стук.
Сердце сжал мне страх недавний, но сказал я: "Это в ставни
Бьется ветер своенравный - неразумен мой испуг!
Это в ставни бьется ветер - неразумен мой испуг!
Ветер создал этот стук!"
|
Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,
In there stepped a stately raven of the saintly days of yore;
Not the least obeisance made he; not an instant stopped or stayed he;
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door –
Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door –
Perched, and sat, and nothing more.
|
Страх рассудком успокоя, растворил свое окно я...
И времен прошедших Ворон в мой покой ворвался вдруг.
Колыхая крылья чинно, он по комнате пустынной,
С гордым видом господина, облетел вдоль стен вокруг.
И на бюст Паллады сел он, облетев вдоль стен вокруг.
Сел в углу, как старый друг.
|
Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stern decorum of the countenance it wore,
"Though thy crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure no craven,
Ghastly grim and ancient raven wandering from the Nightly shore –
Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!"
Quoth the raven "Nevermore."
|
Привиденьем онемелым, черный весь, на шлеме белом
Он сидел. Я улыбнулся, и сказал ему тогда:
"Царство воронов - гробница; как же ты зовешься, птица,
В мире мертвых, где струится тихо Стиксова вода?
Как тебя зовут, где тихо льется Стиксова вода?"
Каркнул Ворон: "Никогда!"
|
Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
Though its answer little meaning – little relevancy bore;
For we cannot help agreeing that no living human being
Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door –
Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,
With such name as "Nevermore."
|
Смысла мало было в этом, но смущен я был ответом
Черной птицы, вещей птицы, той, чье карканье - беда.
В первый раз еще ненастье занесло в приют несчастья,
Занесло в приют, где счастья не осталось и следа,
К несчастливцу, в ком Надежды не осталось и следа,
Птицу с кличкой "Никогда".
|
But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only
That one word, as if his soul in that one word he did outpour.
Nothing farther then he uttered – not a feather then he fluttered –
Till I scarcely more than muttered "Other friends have flown before –
On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before."
Then the bird said "Nevermore."
|
С шлема белого Паллады вниз глядел он без пощады
И, жестоким приговором безнадежного суда,
Повторял одно он слово - так спокойно, так сурово,
Словно не было другого для меня уж навсегда.
"Но меня, - сказал я, - завтра он покинет навсегда".
Каркнул Ворон: "Никогда!"
|
Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,
"Doubtless," said I, "what it utters is its only stock and store
Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster
Followed fast and followed faster till his songs one burden bore –
Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore
Of "Never – nevermore."
|
И ответом вновь смущенный, я подумал, потрясенный:
«"У несчастного безумца жил он долгие года,
У того, кого терзали неудачи и печали,
У того, кому слагали песни горе и нужда.
Ко всему припев единый знали горе и нужда,
И припев тот: "Никогда!"»
|
But the raven still beguiling all my sad soul into smiling,
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird, and bust and door;
Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking
Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore –
What this grim, ungainly, ghastly, gaunt and ominous bird of yore
Meant in croaking "Nevermore."
|
И глубоко в кресло сел я, и на птицу все смотрел я.
Дум печальных, безотрадных развивалась череда.
"Что, - я думал, - он пророчит, что сказать мне, вещий, хочет,
Черный ворон, птица ночи, криком Страшного Суда,
Что пророчит приговором беспощадного суда,
Грозным словом: "Никогда"?
|
This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core;
This and more I sat divining, with my head at ease reclining
On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er,
But whose velvet violet lining with the lamp-light gloating o'er,
She shall press, ah, nevermore!
|
Черной птицы, птицы ночи, в сердце мне вонзались очи,
Дум печальных, безотрадных развивалась череда.
Головой на шелк измятый преклонясь, тоской объятый,
Думал я: она когда-то, весела и молода,
Так склонялась, но уж больше, весела и молода,
Не склонится никогда!
|
Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer
Swung by Angels whose faint foot-falls tinkled on the tufted floor.
"Wretch," I cried, "thy God hath lent thee – by these angels he hath sent thee
Respite – respite and nepenthe from thy memories of Lenore;
Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!"
Quoth the raven, "Nevermore."
|
Но померкнул свет во взорах; я услышал легкий шорох,
Словно ангелы скользили в мире будней и труда.
Из кадильниц их куренья лили в грудь успокоенье...
Я воскликнул: "Вот забвенье! пей забвенье без стыда!
Сердце! посланную Богом пей омегу без стыда!"
Каркнул Ворон: "Никогда!"
|
"Prophet!" said I, "thing of evil! – prophet still, if bird or devil! –
Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted –
On this home by Horror haunted – tell me truly, I implore –
Is there – is there balm in Gilead? – tell me – tell me, I implore!"
Quoth the raven, "Nevermore."
|
"А, - вскричал я, - послан кем он, этот ворон или демон!
Искусителем иль бурей послан темный дух сюда!
Все равно мне! все равно мне! горя в мире нет огромней,
Нет пророка вероломней, - пусть же скажет он, когда
Я найду забвенье горю! пусть же скажет он, когда!"
Каркнул Ворон: "Никогда!"
|
"Prophet!" said I, "thing of evil – prophet still, if bird or devil!
By that Heaven that bends above us – by that God we both adore –
Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore –
Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore."
Quoth the raven, "Nevermore."
|
«А, - вскричал я, - послан кем он, этот ворон или демон!
Этим небом, что над нами, часом Страшного Суда,
Пусть он скажет, заклинаю, что, взнесясь к святому раю,
Я узнаю, я узнаю - ту, кто в сердце здесь, всегда!
Ту, которую "Ленора" звали ангелы всегда!»
Каркнул Ворон: "Никогда!"
|
"Be that word our sign of parting, bird or fiend!" I shrieked, upstarting –
"Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken! – quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!"
Quoth the raven, "Nevermore."
|
"Нет,- вскричал я,- прочь отсюда, темный дух! я верю в чудо!
Удались в свой мир, где вечно плещет Стиксова вода!
Чтоб один я вновь остался! чтоб тот звук, что повторялся
Здесь так часто, затерялся в черной ночи навсегда!
Вынь свой клюв из сердца! Слышишь! Прочь отсюда навсегда!"
Каркнул Ворон: "Никогда!"
|
And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted – nevermore!
|
И вонзил мне в сердце взор он, и сидит поныне Ворон
Предо мной на белом шлеме, Ворон тот, чей крик беда!
И не ведая забвенья, на его взираю тень я,
На ее гляжу движенья - долго, долгие года.
И душа из черной тени - пусть идут, идут года -
Не восстанет никогда!
|
Ворон
Edgar Allan Poe
Эдгар Аллан По
Перевод Брюсова Валерия Яковлевича (Вариант 1915 г.)
| The Raven |
Ворон |
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
"'Tis some visiter," I muttered, "tapping at my chamber door –
Only this, and nothing more."
|
Как-то, полночью тоскливой, я вникал, устав, лениво,
Меж томов старинных, странных, в смысл трактата одного
По отвергнутой науке и, сквозь сон, услышал звуки,
Вдруг услышал смутно стуки, - стук у входа моего.
"Это - гость, - пробормотал я, - там, у входа моего,
Гость и больше ничего".
|
Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow; – vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow – sorrow for the lost Lenore –
For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore –
Nameless here for evermore.
|
Ах, мне помнится так ясно, был декабрь и час ненастный,
Был, как призрак, - отблеск красный от камина моего.
Ждал зари я в нетерпенье, в книгах тщетно утешенье
Мнил найти, в ту ночь мученья - ночь без той, зовут кого
Светлым именем: "Ленора!" Шепчут ангелы его,
На земле же - нет его!
|
And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me – filled me with fantastic terrors never felt before;
So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating
"'Tis some visiter entreating entrance at my chamber door –
Some late visiter entreating entrance at my chamber door; –
This it is, and nothing more."
|
Грустный, шелковый, не резкий шорох алой занавески
Мучил, полнил странным страхом, что не знал я до того.
Чтоб смирить в себе биенья сердца, долго повторенья
Я твердил: "То - посещенье просто друга одного",
Повторял: "То - посещенье, поздно, друга одного,
Друга, больше ничего".
|
Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,
"Sir," said I, "or Madam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,
That I scarce was sure I heard you "– here I opened wide the door;–
Darkness there and nothing more.
|
Наконец, спокойный внешне, я на стук сказал поспешней:
"Сэр иль мистрис, извините, что молчал я до того.
Дело в том, что задремал я, и не сразу расслыхал я,
Слабый стук не разобрал я, - стук у входа моего".
Говоря, открыл я настежь двери дома моего:
Тьма, и больше ничего.
|
Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;
But the silence was unbroken, and the darkness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore!"
This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore!" –
Merely this, and nothing more.
|
И, смотря во мрак глубокий, долго ждал я, одинокий,
Полный грез, что ведать смертным не давалось до того.
Все безмолвно было снова, тьма вокруг была сурова,
Раздалось одно лишь слово: шепчут ангелы его.
Я шепнул: "Ленора"; эхо - повторило мне его,
Эхо, больше ничего.
|
Back into the chamber turning, all my soul within me burning,
Soon I heard again a tapping somewhat louder than before.
"Surely," said I, "surely that is something at my window lattice;
Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore –
Let my heart be still a moment and this mystery explore; –
'Tis the wind and nothing more!"
|
Лишь вернулся я несмело (вся душа во мне горела),
Вскоре вновь я стук услышал, и сильней, чем до того.
Но сказал я: "Это ставней ветер зыблет своенравней,
Им был вызван страх недавний, ветром, только и всего.
Успокойся, сердце! взглянем, что там, только и всего,
Взглянем, больше ничего".
|
Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,
In there stepped a stately raven of the saintly days of yore;
Not the least obeisance made he; not an instant stopped or stayed he;
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door –
Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door –
Perched, and sat, and nothing more.
|
Растворил свое окно я, и влетел во глубь покоя
Статный, древний Ворон, крыльев шумом славя торжество.
Поклониться не хотел он, не колеблясь полетел он,
Словно лорд иль леди, сел он, - сел у входа моего,
Там, на белый бюст Паллады, сел у входа моего,
Сел и больше ничего.
|
Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stern decorum of the countenance it wore,
"Though thy crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure no craven,
Ghastly grim and ancient raven wandering from the Nightly shore –
Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!"
Quoth the raven "Nevermore."
|
Я, с улыбкой, мог дивиться, как эбеновая птица,
В строгой важности, сурова и горда была тогда.
"Ты, - сказал я, - лыс и черен, но не робок и упорен,
Древний, вещий Ворон, странник с берегов, где Ночь всегда!
Как же ты, в стране Плутона, пышно прозван?" Он тогда
Каркнул: "Больше никогда!"
|
Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
Though its answer little meaning – little relevancy bore;
For we cannot help agreeing that no living human being
Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door –
Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,
With such name as "Nevermore."
|
Птица ясно прокричала, изумив меня немало.
Пусть ответ был без значенья, и слова не шли сюда,
Но кому ж благословенье было - ведать посещенье
Птицы, что над дверью сядет, величава и горда,
Что на белом бюсте сядет, величава и горда,
С кличкой: "Больше никогда!"
|
But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only
That one word, as if his soul in that one word he did outpour.
Nothing farther then he uttered – not a feather then he fluttered –
Till I scarcely more than muttered "Other friends have flown before –
On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before."
Then the bird said "Nevermore."
|
Сев на бюст уединенно, Ворон каркал монотонно
Лишь два слова, словно душу вылил в них он навсегда.
Их твердя, он весь застынул, ни одним пером не двинул...
Наконец, я тихо кинул: "Раньше скрылись навсегда
Все друзья: он завтра сгинет, как Надежды, навсегда".
Ворон: "Больше никогда!"
|
Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,
"Doubtless," said I, "what it utters is its only stock and store
Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster
Followed fast and followed faster till his songs one burden bore –
Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore
Of "Never – nevermore."
|
Вздрогнул я, в волненье мрачном, при ответе столь удачном.
«Это - все, - сказал я, - видно, что он знает, жив года
С бедняком, кого терзали беспощадные печали,
Гнали в даль и дальше гнали неудачи и нужда.
К песням скорби о надеждах лишь один припев нужда
Знала: "Больше никогда!"»
|
But the raven still beguiling all my sad soul into smiling,
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird, and bust and door;
Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking
Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore –
What this grim, ungainly, ghastly, gaunt and ominous bird of yore
Meant in croaking "Nevermore."
|
Я, с улыбкой, мог дивиться, как глядит мне в душу птица.
Быстро кресло подкатил я против птицы, сел туда;
Прижимаясь к мягкой ткани, развивал я цепь мечтаний,
Сны за снами; как в тумане, думал я: «Он жил года,
Что ж пророчит, вещий, тощий, живший в старые года,
Криком: "Больше никогда"»?
|
This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core;
This and more I sat divining, with my head at ease reclining
On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er,
But whose velvet violet lining with the lamp-light gloating o'er,
She shall press, ah, nevermore!
|
Это думал я с тревогой, но не смел шепнуть ни слога
Птице, огненные взоры чьи жгли сердце мне тогда.
Это думал и иное, головой припав, в покое,
На лиловый бархат; двое так сидели иногда...
Но на бархат, в свете лампы, не склоняться иногда
Ей - уж больше никогда!
|
Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer
Swung by Angels whose faint foot-falls tinkled on the tufted floor.
"Wretch," I cried, "thy God hath lent thee – by these angels he hath sent thee
Respite – respite and nepenthe from thy memories of Lenore;
Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!"
Quoth the raven, "Nevermore."
|
И казалось: клубы дыма из кадильницы незримой
Зыблют руки Серафима, тихо сшедшего сюда.
"Бедный! - я вскричал, - то Богом послан с ангелом тревогам
Отдых, - отдых, чтоб немного ты вкусил забвенья! Да?
Пей, о пей тот сладкий отдых! Позабудь Ленору! Да?"
Ворон: "Больше никогда!"
|
"Prophet!" said I, "thing of evil! – prophet still, if bird or devil! –
Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted –
On this home by Horror haunted – tell me truly, I implore –
Is there – is there balm in Gilead? – tell me – tell me, I implore!"
Quoth the raven, "Nevermore."
|
"Вещий! - я вскричал. - Зачем он - прибыл, птица или демон?
Искусителем ли послан, бурей пригнан ли сюда,
Я борюсь, хоть полн1 уныний: в этой проклятой пустыне,
Здесь, где властен Ужас ныне, скажет пусть, молю, когда
В Галааде мир найду я? Свой бальзам найду, когда?"
Ворон: "Больше никогда!"
|
"Prophet!" said I, "thing of evil – prophet still, if bird or devil!
By that Heaven that bends above us – by that God we both adore –
Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore –
Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore."
Quoth the raven, "Nevermore."
|
«Вещий! - я вскричал. - Зачем он - прибыл, птица или демон?
Ради Неба, что над нами, часа Страшного Суда,
Скажет пусть душе печальной: я, в Раю, в отчизне дальной,
Встречу ль образ идеальный, что меж ангелов всегда?
Чистый образ, что "Ленора" ангелы зовут всегда?»
Ворон: "Больше никогда!"
|
"Be that word our sign of parting, bird or fiend!" I shrieked, upstarting –
"Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken! – quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!"
Quoth the raven, "Nevermore."
|
"Будь то слово - знак разлуки! - я вскричал, ломая руки. -
Возвратись, злой дух, под бурю, к берегам, где Ночь всегда!
Не оставь здесь перьев черных, как следов от слов позорных,
Не хочу друзей тлетворных! С бюста - прочь, и навсегда!
Вынь из сердца клюв, умчи свой - с двери образ навсегда!"
Ворон: "Больше никогда!"
|
And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted – nevermore!
|
И, как будто с бюстом слит он, все сидит он, все сидит он,
Черный Ворон, там, над входом, с белым бюстом слит всегда.
Светом лампы озаренный, смотрит, словно демон сонный;
Тень ложится удлиненно, на полу дрожит года,
И не встать душе из тени, что, дрожа, лежит года, -
Знаю: больше никогда!
|
Ворон
Edgar Allan Poe
Эдгар Аллан По
Перевод Брюсова Валерия Яковлевича (Вариант 1924 г.)
| The Raven |
Ворон |
Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.
"'Tis some visiter," I muttered, "tapping at my chamber door –
Only this, and nothing more."
|
Как–то в полночь, в час унылый, я вникал, устав, без силы,
Меж томов старинных, в строки рассужденья одного
По отвергнутой науке, и расслышал смутно звуки,
Вдруг у двери словно стуки, – стук у входа моего.
"Это–гость, – пробормотал я, – там, у входа моего.
Гость, – и больше ничего!"
|
Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.
Eagerly I wished the morrow; – vainly I had sought to borrow
From my books surcease of sorrow – sorrow for the lost Lenore –
For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore –
Nameless here for evermore.
|
Ах! мне помнится так ясно: был декабрь и день ненастный
Был как призрак – отсвет красный от камина моего.
Ждал зари я в нетерпеньи, в книгах тщетно утешенье
Я искал в ту ночь мученья, – бденья ночь, без той, кого
Звали здесь Линор. То имя... Шепчут ангелы его,
На земле же – нет его.
|
And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain
Thrilled me – filled me with fantastic terrors never felt before;
So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating
"'Tis some visiter entreating entrance at my chamber door –
Some late visiter entreating entrance at my chamber door; –
This it is, and nothing more."
|
Шелковистый и не резкий, шорох алой занавески
Мучил, полнил темным страхом, что не знал я до того.
Чтоб смирить в себе биенья сердца, долго в утешенье
Я твердил: "То – посещенье просто друга одного".
Повторял: "То – посещенье просто друга одного,
Друга, – больше ничего!"
|
Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer,
"Sir," said I, "or Madam, truly your forgiveness I implore;
But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,
And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,
That I scarce was sure I heard you "– here I opened wide the door;–
Darkness there and nothing more.
|
Наконец, владея волей, я сказал, не медля боле:
"Сэр иль Мистрисс, извините, что молчал я до того.
Дело в том, что задремал я, и не сразу расслыхал я,
Слабый стук не разобрал я, стук у входа моего".
Говоря, открыл я настежь двери дома моего.
Тьма, –и больше ничего.
|
Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before;
But the silence was unbroken, and the darkness gave no token,
And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore!"
This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore!" –
Merely this, and nothing more.
|
И, смотря во мрак глубокий, долго ждал я, одинокий,
Полный грез, что ведать смертным не давалось до того!
Все безмолвно было снова, тьма вокруг была сурова,
Раздалось одно лишь слово: шепчут ангелы его.
Я шепнул: "Линор", и эхо – повторило мне его,
Эхо, – больше ничего.
|
Back into the chamber turning, all my soul within me burning,
Soon I heard again a tapping somewhat louder than before.
"Surely," said I, "surely that is something at my window lattice;
Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore –
Let my heart be still a moment and this mystery explore; –
'Tis the wind and nothing more!"
|
Лишь вернулся я несмело (вся душа во мне горела),
Вскоре вновь я стук расслышал, но ясней, чем до того.
Но сказал я: "Это ставней ветер зыблет своенравней,
Он и вызвал страх недавний, ветер, только и всего,
Будь спокойно, сердце! Это – ветер, только и всего.
Ветер, – больше ничего!"
|
Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,
In there stepped a stately raven of the saintly days of yore;
Not the least obeisance made he; not an instant stopped or stayed he;
But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door –
Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door –
Perched, and sat, and nothing more.
|
Растворил свое окно я, и влетел во глубь покоя
Статный, древний Ворон, шумом крыльев славя торжество.
Поклониться не хотел он; не колеблясь, полетел он,
Словно лорд иль лэди, сел он, сел у входа моего,
Там, на белый бюст Паллады, сел у входа моего,
Сел, – и больше ничего.
|
Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,
By the grave and stern decorum of the countenance it wore,
"Though thy crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure no craven,
Ghastly grim and ancient raven wandering from the Nightly shore –
Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!"
Quoth the raven "Nevermore."
|
Я с улыбкой мог дивиться, как эбеновая птица,
В строгой важности – сурова и горда была тогда.
"Ты, – сказал я, – лыс и черен, но не робок и упорен,
Древний, мрачный Ворон, странник с берегов, где ночь всегда!
Как же царственно ты прозван у Плутона?" Он тогда
Каркнул: "Больше никогда!"
|
Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,
Though its answer little meaning – little relevancy bore;
For we cannot help agreeing that no living human being
Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door –
Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door,
With such name as "Nevermore."
|
Птица ясно прокричала, изумив меня сначала.
Было в крике смысла мало, и слова не шли сюда.
Но не всем благословенье было – ведать посещенье
Птицы, что над входом сядет, величава и горда,
Что на белом бюсте сядет, чернокрыла и горда,
С кличкой "Больше никогда!"
|
But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only
That one word, as if his soul in that one word he did outpour.
Nothing farther then he uttered – not a feather then he fluttered –
Till I scarcely more than muttered "Other friends have flown before –
On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before."
Then the bird said "Nevermore."
|
Одинокий, Ворон черный, сев на бюст, бросал, упорный,
Лишь два слова, словно душу вылил в них он навсегда.
Их твердя, он словно стынул, ни одним пером не двинул,
Наконец, я птице кинул: "Раньше скрылись без следа
Все друзья; ты завтра сгинешь безнадежно!.." Он тогда
Каркнул: "Больше никогда!"
|
Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,
"Doubtless," said I, "what it utters is its only stock and store
Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster
Followed fast and followed faster till his songs one burden bore –
Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore
Of "Never – nevermore."
|
Вздрогнул я, в волненьи мрачном, при ответе столь удачном.
"Это – все, – сказал я, – видно, что он знает, жив года
С бедняком, кого терзали беспощадные печали,
Гнали в даль и дальше гнали неудачи и нужда.
К песням скорби о надеждах лишь один припев нужда
Знала: больше никогда!"
|
But the raven still beguiling all my sad soul into smiling,
Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird, and bust and door;
Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking
Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore –
What this grim, ungainly, ghastly, gaunt and ominous bird of yore
Meant in croaking "Nevermore."
|
Я с улыбкой мог дивиться, как глядит мне в душу птица.
Быстро кресло подкатил я, против птицы, сел туда:
Прижимаясь к мягкой ткани, развивал я цепь мечтаний,
Сны за снами, как в тумане, думал я: "Он жил года,
Что ж пророчит, вещий, тощий, живший в старые года,
Криком: больше никогда?"
|
This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing
To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core;
This and more I sat divining, with my head at ease reclining
On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er,
But whose velvet violet lining with the lamp-light gloating o'er,
She shall press, ah, nevermore!
|
Это думал я с тревогой, но не смел шепнуть ни слога
Птице, чьи глаза палили сердце мне огнем тогда.
Это думал и иное, прислонясь челом в покое
К бархату; мы, прежде, двое так сидели иногда...
Ах! при лампе, не склоняться ей на бархат иногда
Больше, больше никогда!
|
Then, methought, the air grew denser, perfumed from an unseen censer
Swung by Angels whose faint foot-falls tinkled on the tufted floor.
"Wretch," I cried, "thy God hath lent thee – by these angels he hath sent thee
Respite – respite and nepenthe from thy memories of Lenore;
Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!"
Quoth the raven, "Nevermore."
|
И, казалось, клубы дыма льет курильница незримо,
Шаг чуть слышен серафима, с ней вошедшего сюда.
"Бедный!– я вскричал, – то богом послан отдых всем тревогам,
Отдых, мир! чтоб хоть немного ты вкусил забвенье, – да?
Пей! о, пей тот сладкий отдых! позабудь Линор, – о, да?
Ворон: "Больше никогда!"
|
"Prophet!" said I, "thing of evil! – prophet still, if bird or devil! –
Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,
Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted –
On this home by Horror haunted – tell me truly, I implore –
Is there – is there balm in Gilead? – tell me – tell me, I implore!"
Quoth the raven, "Nevermore."
|
"Вещий, – я вскричал, – зачем он прибыл, птица или демон?
Искусителем ли послан, бурей пригнан ли сюда?
Я не пал, хоть полн уныний! В этой заклятой пустыне,
Здесь, где правит ужас ныне, отвечай, молю, когда
В Галааде мир найду я? обрету бальзам когда?"
Ворон: "Больше никогда!"
|
"Prophet!" said I, "thing of evil – prophet still, if bird or devil!
By that Heaven that bends above us – by that God we both adore –
Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore –
Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore."
Quoth the raven, "Nevermore."
|
"Вещий, – я вскричал, – зачем он прибыл, птица или демон?
Ради неба, что над нами, часа страшного суда,
Отвечай душе печальной: я в раю, в отчизне дальней,
Встречу ль образ идеальный, что меж ангелов всегда?
Ту мою Линор, чье имя шепчут ангелы всегда?"
Ворон: "Больше никогда!"
|
"Be that word our sign of parting, bird or fiend!" I shrieked, upstarting –
"Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore!
Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!
Leave my loneliness unbroken! – quit the bust above my door!
Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door!"
Quoth the raven, "Nevermore."
|
"Это слово – знак разлуки! – крикнул я, ломая руки.
Возвратись в края, где мрачно плещет Стиксова вода!
Не оставь здесь перьев черных, как следов от слов позорных!
Не хочу друзей тлетворных! С бюста – прочь, и навсегда!
Прочь – из сердца клюв, и с двери – прочь виденье навсегда!"
Ворон: "Больше никогда!"
|
And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting
On the pallid bust of Pallas just above my chamber door;
And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,
And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor;
And my soul from out that shadow that lies floating on the floor
Shall be lifted – nevermore!
|
И, как будто с бюстом слит он, все сидит он, все сидит он,
Там, над входом. Ворон черный, с белым бюстом слит всегда!
Светом лампы озаренный, смотрит, словно демон сонный.
Тень ложится удлиненно, на полу лежит года, –
И душе не встать из тени, пусть идут, идут года, –
Знаю, – больше никогда!
|
| Примечание переводчика: |
| Ворон. Поэма была написана осенью 1844 г.; Эдг. По долго предлагал ее разным журналам, но безуспешно; впервые она была напечатана в «Evening Mirror», 20 января 1845 г.; позднее перепечатана в изд. 1845 г., в его повторениях и многих других. Эта поэма сразу получила огромную популярность, и Эдгара По стали называть «певцом Ворона». По другим известиям наброски «Ворона» восходят еще в 1843 или даже 1842 г. |
|
|
|